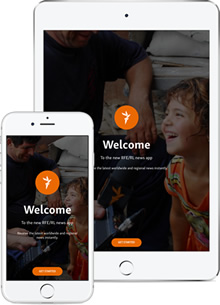Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?
Здесь вы можете найти ссылки на предыдущие серии цикла.
Мюриды идут в атаку
Учение мюридизма о священной войне с неверными и жизни исключительно по шариатским законам завоевывало на Северном Кавказе с конца 20-х годов XIX века все больше сторонников. В 1828 году мулла Магомет Ярагский на собрании своих последователей объявил, что его любимый ученик Кази-Мулла (Гази-Мухаммад) поднимет знамя газавата против неверных, и тут же провозгласил его имамом.
Кази-Мулла (Гази-Мухаммад) объявил себя имамом Дагестана, а затем и Чечни. Гимры и горные общества признали его авторитет, но ханство Авария его отвергло. В конце января 1830 года он пригласил в Гимры представителей почти со всех концов Дагестана и призвал их на брань с неверными. Собралось 3 тысячи человек, которых Гази-Мухаммад повел сначала не против русских войск, а в Аварское ханство. Армия мюридов в феврале 1830 года осадила столицу ханства – Хунзах. Аварское ополчение сделало вылазку и разбило войско мюридов. Гази-Мухаммад и его сподвижник Шамиль чудом спаслись от хунзахцев. Русские отправили в поход отряд барона Розена, которого устроило, что на дороге в Гимры аулы присягнули русским, поэтому далеко в горы он не пошел, чтобы не ввязываться в конфликт.
После этого Гази-Мухаммад попробовал штурмовать крепости Бурную и Внезапную, но не преуспел. Генерал Бекович-Черкасский отказался от намерения контратаковать войско мюридов в укрепленном урочище, что увеличило число сторонников имама в Дагестане. Гази-Мухаммад в 1831 году на время захватил город Тарки, откуда был выбит русскими войсками, совершил крупный набег, взяв Кизляр, и пытался овладеть Дербентом. Под властью имама оказались значительная территория.
Однако с конца 1831 года восстание пошло на спад, мюриды были оттеснены в Горный Дагестан. В конце ноября русские войска предпринимают попытки взять укрепление Агач-Кала. После кровопролитных боев атакованный 1 (13) декабря 1831 года русской армией Гази-Мухаммад был вынужден оставить свою базу в Чумкес-Кенте и снова отступил в Гимры.
Назначенный в сентябре 1831 года командующим Кавказским корпусом барон Григорий Розен поручил генералу Вельяминову наконец взять Гимры. 17 (29) октября 1832 года сначала войска прорвались через теснины, лежавшие на пути в аул, а потом орудийным огнем заставили оборонявшихся покинуть башни крепости. Гази-Мухаммад погиб во время боя у главной башни. Молодой мюрид Шамиль сумел бежать с места побоища. Офицер Эриванского полка Рукевич вспоминал: "После упорного сопротивления башня была взята нашими войсками и все защитники вместе с самим Кази-Муллой переколоты, но один, совсем почти юноша, прижатый к стене штыком сапера, кинжалом зарезал солдата, потом выдернул штык из своей раны, перемахнул через трупы и спрыгнул в пропасть, зиявшую возле башни. Произошло это на глазах всего отряда. Барон Розен, когда ему донесли об этом, сказал: "Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот".
Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот
Русских солдат и офицеров было убито 44, жителей Гимры – около 300. "Мальчишкой" Шамиль не был, но ему повезло: уйти из окружения смогли только несколько человек. Новый командующий генерал Розен взял аманатов, но издал прокламацию, обещая сдавшимся прощение, что не было характерно для генерала Ермолова, командовавшего на Кавказе ранее.
Место убитого Гази-Мухаммада занял его ближайший сподвижник Гамзат-бек, который опоздал со своим отрядом прийти в Гимры на помощь вождю мюридов. Он был достаточно популярен и в 1833 году был выбран имамом. Вторым претендентом стал излечившийся от раны Шамиль. Хорошо образованный сын аварского узденя Денгав-Мухаммада и дочери аварского бека Пир-Будаха, принимавший в движении участие с самого начала, пока имел меньше сторонников. Его время еще не пришло.
Гамзат-бек решил по примеру предшественника сначала попытаться захватить Аварское ханство. В конце августа 1833 года под Аракани произошло сражение между Гамзат-беком и войсками шамхала и мехтулинского хана. На четвертый день ханы отступили, и имам победил. Он покорил значительную часть Нагорного Дагестана и собирался захватить стратегический пункт – большой аул Гергебиль. В начале 1834 года его противники из числа местных ханов объединились, но потерпели поражение у Гергебиля. Для контроля над Аварией Гамзат-бек решил взять ее столицу Хунзах, где правила ханша Баху-Беке.
Приведя к Хунзаху в августе 1834 года 12 тысяч воинов, Гамзат-бек потребовал от нее принять шариат, отказаться от связей с русскими и присоединиться к войне против них. Ханша готова была принять шариат, но не воевать с Россией, а занять нейтральную позицию, не мешая Гамзат-беку. В ходе переговоров с имамом ханские сыновья Нуцал и Умма-хан были убиты. Еще один сын, Булач, оказался пленен и остался заложником. Имам захватил Хунзах, его солдаты вырезали почти всю ханскую родню, убив и ханшу Баху-Беке.
Гамзат-бек поселился во дворце и начал новые походы, чтобы завоевать весь Дагестан. Но удача от него отвернулась. Акушинский и цудаханский ханы дали ему отпор, а на севере Дагестана русскими войсками была начата новая экспедиция. Имам Гамзат-Бек вернулся в Хунзах, где против него созрел заговор. Его составили, объявив имаму кровную месть, молочные братья погибших ханов – Осман и Хаджи-Мурат (тот самый, герой повести Льва Толстого). В пятницу 19 сентября (1 октября) 1834 года в мечети Хунзаха Осман ударом кинжала убил Гамзат-бека. Сам нападавший погиб, но горожане поддержали заговорщиков, которые во главе с Хаджи-Муратом перебили личную гвардию имама. По одной из версий, они сожгли ее бойцов вместе с ханским домом, где те оборонялись. К власти в ханстве пришел Хаджи-Мурат.
В то же время Гамзат-бек успел создать в других районах подобие исламского государства, учредив сеть наибов, которые были наместниками и представителями имама в каждом из регионов. Погибший имам даже пробовал вести переговоры с Россией: его проектом была не война с ней, а создание в Дагестане и части Чечни своего независимого государства. По крайней мере, дагестанский историк Юсуп Дадаев утверждает, что "в отличие от своего предшественника, имам Гамзат-бек решил сконцентрироваться на вопросе закрепления своей власти среди кавказцев, не отвлекаясь на походы против русских. Имам хотел закончить войну и установить с Россией мирные соседские отношения". С другой стороны, целью его ударов были именно пророссийские ханы, и их свержение не могло устроить царских наместников.
Преемником погибшего от пуль и кинжалов аварских врагов Гамзат-бека стал Шамиль, потомок известного аварского рода, родившийся в Гимры в 1797 году, учившийся у улемов и в медресе, знавший арабский, чеченский и турецкий языки. В молодости он стал мюридом у Гази-Мухаммада, пользовался авторитетом и как знаток ислама, и как воин. В Хунзахе во время переворота Шамиль не был. После гибели Гамзат-Бека в сентябре 1834 года на совете улемов он был избран имамом. Конкурентов на сей раз у него не было.
Кровавый бой при Ахульго
Первое решение Шамиля было жестоким. Булач-хан, малолетний сын убитой Баху-Бике, был дан аманатом и перевезен в Гоцатль, потом в аул Унцукль. Шамиль считал его угрозой, поскольку сторонники хана пытались освободить его и сплотить вокруг него врагов имама. Из-за потенциального риска возрождения ханской силы 11-летний Булач по приказу Шамиля, как гласит предание, был то ли сброшен с моста, то ли убит иным способом.
Военные действия русских войск, теперь против отрядов Шамиля, продолжались. Генерал Ланской занял Гимры, но затем потерпел поражение и отошел в Темир-Хан-Шуру. Это прибавило Шамилю популярности. Однако царское правительство смогло объединить против него феодалов, поставив ханом Аварии Магомед-Мирза-хана Кази-Кумухского. Шамиль тем временем планировал большое наступление. На него готовили покушение, которое удалось предотвратить.
С 1835 года по 1837 год резиденция Шамиля находилась в Ашильте. Он искал союзников и нашел себе главного помощника – имама Чечни Ташев-Хаджи. Вместе они занимали все новые территории. 7 (12) апреля 1836 года Шамиль захватил Аксай. Походу на Эндирей помешало появление войска генерала Пулло. В июне Шамиль взял Харадерик и двинулся на Хунзах, взял Унцукуль, Койсубула была присоединена. Далее он вернул Гоцатль. Так он чуть не окружил Аварское ханство, но начале августа подоспел генерал Реут и помешал планам взять ханство в кольцо. Царские войска вошли в Аварию и разместили гарнизон в Хунзахе, но горные общества региона остались под контролем имама.
Авария была целью постоянных карательных походов. В 1837 году генерал Карп Фези 7 (19) мая с отрядом двинулся туда из Темир-Хан-Шуры. 19 (31) мая он переправился через Кара-Койсу, а через 10 дней вошел в Хунзах. После этого его отряд направился в села Унцукуль и Ашильда, жители которых ранее перешли на сторону Шамиля. 9 (21) июня была взята штурмом Ашильда, а через несколько недель занят Ахульго. После двухдневного кровопролитного боя частично взят и аул Тилитл. Захватив половину аула, солдаты не сумели продвинуться дальше. Фези заключил перемирие и отступил. В августе 1837 года Фези атаковал села Орота и Хараки и подчинил Койсубулу шамхалу. Контроль был действенен, пока русские войска находились в селах и аулах.
В связи с приездом в 1837 году императора Николая I на Кавказ русское командование дало генералу фон Клюгенау приказ: попытаться привезти Шамиля к императору с просьбой о помиловании. Клюгенау встретился с Шамилем, но успеха, конечно, не добился. Какое помилование, если Шамиль себя уже ощущал идейным вождем горной части Дагестана и важной фигурой в Чечне? Отказ от войны лишал Шамиля статуса исламского вождя Кавказа и перспектив, а переговоры всерьез ему не предлагались. Максимум, что могли ему предложить – ханство в Аварии. Этого ему было бы мало.
В 1838 году генерал Карп Фези вновь возглавил экспедицию в Нагорный Дагестан, но вел себя пассивно. Отбив атаку горцев и ненадолго заняв аул Энхело, генерал повел в августе переговоры о перемирии с Шамилем. В итоге имам ушел в Ахульго, а Фези отступил в Хунзах.
В начале 1839 года русские решили нанести решающий удар по Шамилю. Первым делом они усмирили Чечню. Отряд Ташев-Хаджи был разбит. Обезопасив себя с севера, они двинулись на горную крепость Ахульго. 30 мая (11 июня) 1839 года войска Шамиля были атакованы генералом Граббе в Аргвани на дороге в Ахульго. Аргвани – аул из 500 каменных толстостенных домов, стоявших шестью ярусами по скатам горы. Каждый дом представлял собой форт, который нельзя было взять без штурма. Армия атаковала Аргвани тремя колоннами, силами 8 тысяч человек с пушками. Оборонялись 4 тысяч воинов Шамиля. Бой был страшен, улицы завалены телами убитых и раненых. К вечеру солдаты втащили в аул несколько орудий, способных пробивать стены. Пожары от огня артиллерии решили исход битвы, длившейся без перерыва 36 часов. Императорская армия потеряла до 150 человек убитыми и 500 ранеными, а мюриды – до 500 погибшими и 1500 ранеными. Победа в Аргвани открыла русским дорогу к тогдашней столице имамата – Ахульго.
Участник экспедиции, будущий военный министр Дмитрий Милютин писал в своих мемуарах: "Шамиль заперся в Ахульго со всеми своими приверженцами, их семьями и заложниками от покорных ему племен, число которых доходило до 4000 душ обоего пола. Вооруженных было свыше 1000 человек, из них 100 самых отчаянных мюридов, предводимых Али-Беком, заперлись в Сурхаевой башне".
Гора, где находились Старое и Новое Ахульго, была защищена траншеями и окопами. Были и каменные постройки с бойницами. В Новом Ахульго перед главной башней был построен небольшой бастион. 29 июня (11 июля) 1839 года после артподготовки три батальона на крутом склоне без успеха штурмовали Сурхаеву башню. С большими потерями они отошли, но в башне были убиты многие мюриды Али-Бека, который погиб. 4 (16) июля 1839 года башню попытались снова атаковать, но не преуспели, и затем постоянным огнем артиллерии перебили всех ее защитников. Русские солдаты поднялись наверх, увидев, что горцы в башне мертвы или погребены под завалами. Теперь можно было приблизить орудия к самому аулу.
16 (28) июля генерал Павел Граббе начал штурм аула. Колонна Павла Врангеля под огнем мюридов ворвалась в укрепление, но не смогла преодолеть второй ров и отошла, понеся большие потери – до 150 убитых. Много жертв было и у Шамиля.
Генерал Граббе предложил горцам капитулировать на почетных условиях. Шамиль отдает своего сына в заложники. Шамиль и мюриды сдаются. "Жизнь, имущество и семейства их остаются неприкосновенными. Правительство назначает им место жительства и содержание. Все прочее предоставляется великодушию русского императора. Все оружие, находящееся ныне в Ахульго, отдается русскому начальству. Оба Ахульго считать на вечные времена землею императора всероссийского и горцам на ней без дозволения не селиться". К согласию стороны не пришли.
Следующий штурм состоялся 17 (29) августа 1839 года. Русские солдаты преодолели героическое сопротивление мюридов, засевших в передовом укреплении под начальством наиба Сурхай-кади. Кровопролитный бой длился до полудня. Из защитников Ахульго уцелели немногие, был убит и сам Сурхай-кади. Этот успех позволил русским войскам закрепиться в непосредственной близости от Нового Ахульго. Стало ясно, что взятие всего Ахульго предрешено.
Горцы, несмотря на неминуемую гибель, ни за что не хотели сдаваться и защищались с исступлением
Когда перестрелка утихла, Шамиль выслал к генералу Граббе в заложники своего старшего сына, девятилетнего Джамалуддина. 18 (30) августа переговоры с Шамилем продолжил генерал Пулло, настаивавший на прежних условиях капитуляции. Получасовая дискуссия ни к чему не привела. Было установлено трехдневное перемирие. Шамиль в эти дни писал Граббе, что он готов сдаться, но хотел бы после капитуляции жить в горах, а сына поселить в Чиркее. Русские на это не пошли. Они хотели, чтобы Шамиль покинул Кавказ.
21 августа (3 сентября) 1839 года бои возобновились, и на следующий день царские войска ворвались в Новое Ахульго. Часть защитников отступила, а 200 мюридов были убиты, обороняясь в саклях. В тот же день батальон апшеронцев атаковал защитников Старого Ахульго. Мюриды отстреливались, но солдаты ворвались аул, отбросив штыками оборонявшихся. Около 600 сподвижников Шамиля продолжали сражаться, но с подходом подкреплений к русским войскам они были постепенно перебиты.
Дмитрий Милютин писал: "Горцы, несмотря на неминуемую гибель, ни за что не хотели сдаваться и защищались с исступлением: женщины и дети, с каменьями или кинжалами в руках, бросались на штыки или в отчаянии кидались в пропасть, на верную смерть. Трудно изобразить все сцены этого ужасного фанатического боя: матери собственными руками убивали детей, чтобы только не доставались они русским; целые семейства погибали под развалинами саклей… Насчитано было свыше 1000 неприятельских трупов, большое число их неслось по реке. В плен было взято до 900 человек, большей частию женщин, детей и стариков…". Современные оценки – более 3 тысяч погибших. Российские потери за время штурма составили до 500 человек убитыми, 1722 ранеными.
Из Ахульго удалось прорваться двум десяткам человек во главе с раненым Шамилем. При штурме погибла жена Шамиля Джавгарат и их грудной сын Саид. Согласно преданию, сестра Шамиля покончила с собой, бросившись в ущелье. Старший сын Шамиля Джамалуддин на полтора десятилетия остался в плену в роли заложника. Имам с ближайшими соратниками все же ушел в Чечню. Генералы, взявшие Ахульго, считали победу полной, будучи уверенными, что теперь-то имамат не возродится, но ошиблись.
Возвращение Шамиля
В январе 1840 года Шамиль появился в чеченском ауле Дарго, расположенном в лесах около границы между нынешними Чечней и Дагестаном. Имам вел переговоры с различными чеченскими лидерами, с которыми договорился, что в Урус-Мартане пройдет съезд чеченских военачальников и улемов, куда будет приглашен и Шамиль. В регионе ходили слухи о том, что Россия планирует новую акцию разоружения, что неверные превратят местных жителей в крепостных. 8 (20) марта 1840 на собрании в Урус-Мартане Шамиль был провозглашен единственным духовным и военным лидером – имамом Чечни и Дагестана. Уже в апреле 1840 года отрядам, признавшим Шамиля, были подконтрольны Большая и Малая Чечня, а в Ингушетии шли волнения. Из своей базы в Дарго Шамиль перекрыл подвоз хлеба из Чечни в Дагестан, оказывая давление на ханства. Там тоже началось восстание, Шамиль предпринял на волнующиеся территории поход, но не взял Хунзах, а, захватив Гимры, там не удержался, потерпев в сентябре 1840 года поражение.
В ответ русская армия прошла по Малой Чечне, поджигая хлеб и аулы. В июле генерал Галафеев провел карательную экспедицию, форсировав с боем реку Валерик, что удостоилось стихотворения Михаила Лермонтова, участвовавшего в кровопролитном сражении. В сентябре 1840 года Галафеев начал поход на Большую Чечню. Воспользовавшись этим, Ахбердил-Мухаммад перешел Сунжу, атаковал Моздок и станицу Луковскую, попытался возмутить Кабарду, но был отбит.
В ноябре 1840 года к Шамилю присоединился видный аварский правитель Хаджи-Мурат. Хаджи-Мурат начал переговоры с Шамилем и стал наибом селений Тлох, Цельмес и других окрестных деревень.
1841 год Шамиль начал с долгой борьбы в Дагестане: весной генерал Граббе пошел на Аух, но не удержался там и в сентябре отступил. Шамиль же устремился на Кази-Кумухское ханство. В конце марта его силы взяли Кумух, подняв на восстание местных жителей. В июне 1841 года подошел отряд генерала Аргутинского-Долгорукого. Завязалось сражение у Кюлюли, где имам проиграл и отступил, отдав Кумух. Аргутинскому покорились андалальские аулы, кроме Дарго. Он занял несколько ближних к нему аулов. Зато генерал Граббе в мае 1842 года потерпел неудачу в Чечне в шестидневном бою в Ичкреинском лесу. В отместку Граббе собрал новые силы и в конце июня двинулся в Аварию, взял Цатаних и сжег село Игали.
В 1842 году Шамиль направил своих эмиссаров на Северо-Западный Кавказ, чтобы поднять адыгов против России. В конце года Шамиль созвал съезд в Дарго. К концу 1842 года государство имама уже имело свою постоянную армию, казну, органы управления, в занятые районы были назначены наместники. В Дагестане начались восстания против правителей в Аварском и Мехтулинском ханствах и шамхальстве. Шамиль готовился к наступлению на Аварию до августа 1842 года. Внезапными атаками в сентябре он брал одно укрепление за другим: Харачи. Балахани, Моксох, Цатаних, 7 (19) сентября 1842 года сдался гарнизон в Ахальчи. Отряд Зайцева попытался вернуть Харачи, но был отбит. Клюгенау отступил в Хунзах.
Срочно переброшенный Самурский отряд Аргутинского-Долгорукого прибыл 13 (25) сентября в Гоцатль. Он заставил отряды имамата отступить и соединился с Клюгенау в Хунзахе. У Тануси русские потерпели поражение и отступили, Шамиль захватил пушки. Генерал фон Клюгенау отошел. Почти вся Авария была взята Шамилем, он отбил у русских 6 укреплений, захватил 12 артиллерийских орудий, 4000 зарядов и 250 тысяч патронов. Имперская армия потеряла более 2000 человек.
Следующими ходами Шамиля были поход на шамхальство и блокада крепости Темир-Хан-Шура. И здесь ему сопутствовал успех. Поход получил поддержку жителей. Популярной мерой было объявленное имамом освобождение рабов. Шамхал бежал, его имущество Шамиль захватил и вывез в горы. Крепость была месяц блокирована, но взять ее не позволил недостаток пушек. Лишь в декабре 1842 года, с подходом к противнику крупных подкреплений, которые сняли блокаду Темир-Хан-Шуры и победили силы имама у Казанища, Шамиль отступил в горы, откуда руководил набегами своих наибов.
В начале 1844 года Самурский отряд Аргутинского отбил два похода имамата – на Кайтаг и Кази-Кумух. Во время майских походов генералов Нестерова и Фрейтага в Чечню их отряды в лесных боях понесли большие потери. В июне 1844 Шамиль в который раз атаковал шамхальство, но был отбит 3 (15) июня 1844 года генералом Пассеком. Имам также потерял Акуша-Дарго.
Важным было то, что Шамилю в 1844 году присягнул правитель Илисуйского султаната, генерал-майор русской службы Даниял-бек, обиженный притеснениями русских начальников. "Шамиль одержал великую победу – присоединением к нему Элисуйского султана Даниель-бека. Его владения были невелики, но сам он был человек умный, храбрый и влиятельный", – писал русский историк Ковалевский.
Укрепления столицы Даниял-бека Илису 21 июня (3 июля) 1844 года штурмом, применяя картечь, взяли царские войска, потерявшие убитыми до 100 человек и до 300 ранеными. Жителей погибло около 500. По приказу генерала Шварца селение, имевшее до 600 каменных домов, было разрушено до основания. Был уничтожен и замок султана, сожжены все сады и посевы, уцелела только мечеть. Илисуйский султанат был официально ликвидирован российским правительством. Даниял-бек с соратниками ушел в имамат, за который сражался 15 лет до конца вместе с Шамилем. После победы русских Даниял-бек сдался князю Барятинскому, был помилован, а император вернул ему прежний чин генерал-майора "с зачислением по армейской кавалерии и при Кавказской армии" и ордена. Решение было удачным дипломатическим ходом, но в конце концов Даниял-бек уехал в Турцию.
Неудача Воронцова
В конце 1844 года император Николай I назначил наместником на Кавказе и главнокомандующим войсками Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанта Михаила Воронцова, который сменил на этом посту генерала Нейдгардта. Сторонник дипломатии Воронцов предлагал Шамилю при признании верховенства императора сохранение власти над занятой имамом территорией. Тот отказался. Возможно, что это была ошибка Шамиля: формально признав себя вассалом, подобие мира можно было бы сохранять годами, избежав жертв бесконечной войны.
Разбить, буде можно, скопища Шамиля. Проникнуть в центр его владычества. В нем утвердиться
План военных действий на Кавказе на 1845 год был составлен самим императором: "Разбить, буде можно, скопища Шамиля. Проникнуть в центр его владычества. В нем утвердиться". Николай I приказал взять столицу мятежников аул Дарго, что, как он был уверен, приведет к капитуляции Шамиля, как это было бы в Европе. Были сформированы Чеченский и Дагестанский отряды, общей численностью в 10 тысяч человек. Опытные кавказские генералы Долгоруков-Аргутинский, Фрейтаг и Лабынцев высказали сомнения: противник отступит в горы, а войска понесут потери в пути от партизанских действий. Но приказ самодержца надо было исполнять. Отряды Шамиля, готовые встретить армию Воронцова, составляли в разное время от 4 до 10 тысяч человек и состояли из опытных воинов.
5 (17) июня 1845 года начался успешный штурм русскими войсками горы Анчимеер с целью установления контроля над перевалом Кырк, ведущим в Гумбет. Далее дожди и снегопады замедляли поход. 13 (25) июня войска Воронцова двинулись к в сторону Андии, ранее считавшейся недоступной для русских войск. Но Воронцов увидел в Андии выжженую землю – горящие села, из которых Шамиль увел всех людей в горы. Начался штурм позиций Шамиля, у которого было до 6 тысяч человек с тремя орудиями. Русская армия закрепилась в Андии, организовала снабжение. На перевале Речел была отбита атака отряда Хаджи-Мурата.
Утром 6 (18) июля главные силы Воронцова двинулись в направлении Дарго. Дорога была перекрыта завалами. Горцы не вступали в открытые бои, но обстреливали обходивших и преодолевавших завалы солдат, а затем отступали. Завалы на узкой дороге протяженностью семь верст были постепенно взяты штурмом, однако русские войска понесли немалые потери. Погиб генерал Фок, командующий артиллерией, а князь Дондуков-Корсаков был ранен. К вечеру, потеряв до 70 человек убитыми, русские войска вошли в пустой и отчасти подожженный аул Дарго, который обстреливали с соседних вершин засевшие там горцы. Пришлось организовывать вылазки для прекращения обстрелов. Были новые жертвы. Солдаты возвращались в Дарго, тогда обстрелы возобновлялись.
Армия Воронцова простояла так в Дарго неделю, оказавшись в плотном окружении партизан. Отряды Шамиля успешно напали на "сухарную экспедицию" – вьючный обоз, доставлявший войску продовольствие. Вблизи Дарго новое сражение развернулось на той же узкой лесной дороге-тропе. Из Дарго вышел навстречу обозу отряд генерала Франца Клюки-фон-Клюгенау, который также оказался под огнем с завалов и из леса. В то время, пока авангард колонны брал штурмом завалы, горцы "разъединяли нестройные колонны обоза, бросаясь в кинжалы и шашки и грабя вьюки".
Порядок в колонне был нарушен, она превратилась в толпу, которая в беспорядке двигалась в сторону Дарго. Навстречу ей из Дарго было выслано новое подкрепление. Это помогло сохранить и часть обоза, и жизни солдат. Один из офицеров вспоминал: "Когда беспорядочная толпа наших разбитых войск подходила к лагерю, на помощь ей была выслана вторая половина Кабардинского батальона. Она отстояла нам несколько вьюков, штук сорок скота, несколько раненых офицеров, два чемодана с почтою и клочки изнуренного и окровавленного войска, на которые невозможно было смотреть без сожаления". Пробиться удалось за два дня боев с большими потерями: в рукопашных схватках погибли генералы Викторов и Пассек и до 500 солдат и офицеров. Нападавшим из засад достались 3 горных орудия.
Михаил Воронцов принял решение уходить из Дарго не старой дорогой, а через враждебный район Герзель-Аула, демонстрируя свою непобедимость. Перед уходом русские сожгли Дарго дотла. В строю у графа Воронцова оставалось около 5 тысяч бойцов, но нужно было довезти назад почти тысячу раненых. 13 (25) июля главный отряд Воронцова начал выдвижение из Дарго, на следующий день русские войска с боями пробились лесом к селению Гурдали, потеряв 15 человек. 16 (28) июля на открытой местности авангард был атакован отрядом наиба Большой Чечни Суаиба Эрсеноевского, который погиб при штыковой контратаке. Еще полсотни погибших стали результатом этого боя.
Недостаток сил, усталость и большое количество раненых вынудили генерала Воронцова остановить продвижение войск и занять оборону лагерем, ожидая прибытия шедших навстречу свежих войск генерала Роберта Фрейтага. Так войска отбивались два дня, подвергаясь обстрелам и атакам и потеряв еще 150 человек. К вечеру 18 (30) июля 1845 года подошла колонна Фрейтага, в которой было 7–8 пехотных батальонов и три казачьи сотни при 13 орудиях. К 20 июля (1 августа) войска Воронцова, двигаясь под прикрытием свежих сил, достигли Герзель-Аула, за которым находилась Кавказская линия.
По итогам одного из самых неудачных горных походов русской армии оказались видны огромные проблемы: силы главнокомандующего Воронцова дошли до Дарго, не разгромив врага и не закрепившись в регионе, который остался подконтрольным Шамилю. Были убиты более тысячи участников экспедиции, в том числе три генерала. Шамиль захватил немало трофеев, которые разошлись среди горцев, превозносивших до небес военные таланты имама. При этом громадные потери и моральный шок резко снизили боеспособность армии главнокомандующего. Такова была цена выполнения плана императора.
Это жребий войны: истинно русский всегда готов умереть за Государя и Отечество
Официально было объявлено, что поход на Дарго достиг цели. Все его участники были награждены. Им оставалось утешаться приказом ставшего князем генерала Воронцова: "Мы потеряли несколько достойных начальников и храбрых солдат. Это жребий войны: истинно русский всегда готов умереть за Государя и Отечество…".
Российским военным был снова преподан трагический урок: в горной войне с идейным противником, ведущим партизанские действия, все обстоит совсем не так, как на плац-парадах или в боях с регулярной армией. Войска Кавказского корпуса вернулись к тактике постепенной блокады "немирных" горцев, вырубки просек и коротких карательных походов.
Смерть Хаджи-Мурата
В 1846 году у Шамиля возник новый план: поднять против России Кабарду, лежавшую между имаматом и землями адыгов, которые вели борьбу с Российской империей на Западном Кавказе. В апреле 1846 года имам с войском беспрепятственно дошел до Кабарды, почти месяц агитировал там население за восстание против империи, но своего не добился: большинство было против войны. Отправленный им в Ларс отряд не получил поддержки у ингушей. Адыги не рискнули пойти Шамилю навстречу. Русские силы выжидали. В итоге отряд имама вернулся без результата, но почти без потерь, переправившись через Терек и Сунжу.
Осенний поход в Акуш-Дарго был не слишком удачен: силы имамата вынуждены были отступить после боев с войсками генерала Бебутова. Шамиль перешел к обороне. Войска Воронцова после двухмесячной осады в 1847 году взяли аул Салта. 10-тысячная армия осадила село и начала его бомбардировку. Аварцы не капитулировали и отбили атаки. Тогда войска с помощью вырытых траншей под прикрытием пушек приблизились к крепости, разрушив все башни и защитные сооружения до основания при помощи мин. 14 (26) сентября 1847 года после обстрела из орудий начался победный и кровопролитный приступ. Штурм стоил 500 убитых русским и 3 тысяч – горцам. Главнокомандующий приказал предать село огню.
В 1848 году после осады был захвачен аул Гергебиль. В июне 1848 года войска князя Аргутинского разместили артиллерию вокруг населенного пункта, где находилось до тысячи бойцов Шамиля, и перекрыли выходы из него. 6 (18) июля 1848 года, в 3 часа утра, со всех батарей из 25 пушек был открыт огонь, продолжавшийся до 9 вечера. "В 10 часов, пользуясь темнотой, горцы вышли из аула и бросились в разные стороны, стараясь пробраться на левый берег Койсу, где были расположены большие группы мюридов". С 7 (19) июля 1848 года русские войска неделю были заняты разрушением Гергебиля, a затем ушли, на обратном пути подвергаясь налетам отрядов имамата.
Поход же Шамиля на крепость Ахты в сентябре 1848 года был проделан в расчете на то, что его поддержат самурские общины. Отчасти так и произошло, но штурм крепости не был удачен. На помощь осажденным пошел отряд князя Аргутинского, и, опасаясь атаки с тыла, Шамиль через месяц снял осаду.
Между тем русские к 1850 году, прокладывая дороги в лесах, добились успехов в усмирении Чечни, становившейся все более уязвимой из-за новых походов войск. Российские власти одновременно проводили политику экономического привлечения чеченцев из имамата, устраивая у крепости Грозной ярмарки. В равнинной части Малой Чечни Шамилю уже не удавалось установить свою власть. Расчет на мятежи местных жителей не сработал, уставшие от войны чеченцы не восставали. Это, вкупе с агитацией шейха Кунта-Хаджи, который продвигал среди чеченцев пацифистскую суфийскую идеологию и выступал против имамата, стало началом кризиса государства Шамиля.
В 1850 году Шамиль пытался вернуть себе власть в Кази-Кумухе, но у горы Тручидаг в июне начались затяжные бои с отрядом князя Аргутинского, а потом – поход генерала Грамотина. То и другое закончилось не в пользу горцев. Поход Шамиля в Кази-Кумух также не удался.
В 1851 году произошел конфликт Шамиля с Хаджи-Муратом, который провалил поход на Табасаран. Набег был отбит русскими. Шамиль снял Хаджи-Мурата с поста наиба. Возникло противостояние между аварскими силами разжалованного наиба и верными Шамилю горцами. Бой между ними предотвратили старейшины. Аварию поделили: в западной части расположились силы Хаджи-Мурата. Долгим конфликт не оказался: Хаджи-Мурату передали слухи, что Шамиль якобы приказал его убить. В ноябре 1851 года Хаджи-Мурат перешел к русским, был принят генералом Барятинским с почетом. Его отправили в кавказскую столицу Тифлис "не так, как пленника, а как человека знаменитого, со всею подобающей честью". Но в золотой клетке популярный горский полководец, которого теперь хотели представить в качестве примера примирения с русскими, без семьи долго не прожил. Уже в мае 1852 года, находясь в Нухе, он попытался бежать и был убит во время преследования.
Хаджи Мурад умер отчаянным храбрецом, каковым и жил
Князь Михаил Воронцов писал: "…Хаджи Мурад, действительно, был замечательный человек, смелости, можно сказать, безумной, не знающий страха, вместе с тем имевший много природной хитрости, совершенное знание Дагестана… Этот неустрашимый человек был обоюдоострой шпагой, которая могла бы сделаться затруднительною для нас… Хаджи Мурад умер отчаянным храбрецом, каковым и жил. Оставив своих лошадей, он спрятался в какую-то яму, которую укреплял с товарищами, копая землю руками, и отвечал ругательствами на предложение сдаться. На его глазах умерли двое его товарищей, и он сам, раненный четырьмя пулями, слабый и истекающий кровью, в отчаянии бросился на атакующих, и тут-то его покончили!"
Генерал Александр Барятинский методично проводил в 1852 году походы в Большую и Малую Чечню, разоряя противника. Под таким нажимом часть их отошла от имамата. Поход же Шамиля в Осетию не удался, одна из его колонн была разбита, путь перекрыли. Пришлось отказаться и от идеи поднять восстание кабардинцев и объединиться с адыгами.
В 1853 году императорская армия продолжала краткие походы против горцев, но с приближением и началом Крымской войны воздерживалась от активных действий. За два месяца до начала войны, в августе 1853 года, Шамиль идет в Джаро-Белоканы с расчетом, что местные жители восстанут против русских. Шамиль был у крепости Закаталы, а мудир Даниял-бек пошел на Белоканы. Однако местные жители не поддержали имама, Данияла отбили у Белокан, а Шамиль отступил от Закаталы. Горские войска ушли за Кавказский хребет.
В октябре 1853 года султан предложил Шамилю начать боевые действия в Грузии, чтобы соединиться с османскими силами в Имеретии. Но до 1854 года Шамиль ограничивался небольшими атаками в Чечне и Дагестане, отвлекая внимание русских. Лишь в июле 1854 года Шамиль совершает поход в Кахетию. Его войска взяли Шилду и перешли реку Алазань. Но военный поход превратился в набег за добычей, было захвачено много пленных, в том числе княгини Чавчавадзе и Орбелиани. Имам остановился ждать в горах, отправив вперед конницу. Согласовать действия с пашой Османом не удалось. В начале июля 1854 года армия имамата с добычей вернулась в горы, не вступая в бои с российскими войсками. В марте 1855 года пленных грузинских княгинь обменяли на сына Шамиля Джамалуддина и на племянника Гамзат-бека.
Ранее, осенью 1854 года, отряды Шамиля напали на Сунженскую и Лезгинскую линии, но были отбиты. Войска Барятинского продолжали рубку леса. Они захватили укрепление Шуаиб-Капу, после чего начали истребление аулов по Джалке. В Табасаране в октябре 1854 года началось восстание, но Шамиль не сумел к нему присоединиться, а в следующем месяце бунт подавили. Систематическая линия русского командования давала плоды, особенно после того, как после завершения Крымской войны в 1856 году на Кавказ снова были направлены крупные русские силы. Империя начала наступление.
Кавказский пленник
Многие военачальники имамата уже вели тайные переговоры с русскими генералами. В июле 1856 года чеченский наиб, один из главных советников имама Юсуф-хаджи Сафаров попал в опалу и бежал с семьей в крепость Грозную. Позднее он составил для Барятинского карты имамата с указанием расположения отрядов. В 1857 году ушел к русским один из молодых полководцев имама – Эски Хулхулинский. С 1857 года начинается завоевание Большой и Малой Чечни. В ноябре быстро пошли вырубка просек и уничтожение аулов в сторону Дылыма. В ноябре же от имама отпал Аух. В декабре 1857 года до конца захвачена равнина Большой Чечни. В 1858 году жители Малой Чечни склоняются к сдаче: население из-за войны ушло в горы и начало голодать. Сдались гойтинцы, гехинцы. В апреле 1858 года завоевание Малой Чечни завершилось, кольцо вокруг имамата сжалось. Когда начались волнения в Ингушетии, Шамиль не смог ими воспользоваться.
В июле 1858 генерал Николай Евдокимов занял Аргунское ущелье. Шамилю было нанесено поражение при Мескен-Дуке и в сражении у села Ачхой. Наиб Малой Чечни Сайдулла Гехинский перешел на сторону Евдокимова. 6 (18) июля 1858 года в Шатое имам собрал своих чеченских наибов, обратился к ним с призывом мобилизовать все силы, 16 (28) июля выступил и в Шали с тем же призывом. Обращение не подействовало. Шатоевцы перешли на сторону русских, а в августе от Шамиля ушел мудир Малой Чечни Сайдулла Усманов. В январе-феврале 1859 года сдались генералу Барятинскому знаменитые чеченские наибы Талхиг Шалинский, командовавший артиллерией, Эдил Веденский и Умалат Ауховский.
В декабре 1858 года началась четырехмесячная осада столицы имамата Шамиля – аула Ведено. Чеченское селение было укреплено как настоящая крепость с брустверами и бастионами. Имелось шесть редутов, из них два – с орудиями. Дом Шамиля был окружен высоким частоколом и рвом. Русские войска генерала Николая Евдокимова постепенно рубили просеки и подходили траншеями к укреплениям с разных сторон. Отряды горцев периодически атаковали войска. Наступающих было более 7 тысяч. В обороне участвовали до 3,5 тысяч бойцов Шамиля. Ключевой позицией, которую решил взять Евдокимов, был хорошо защищенный Андийский редут.
К концу марта аул был окружен траншеями, редутами и батареями. 1 (13) апреля 1859 года Андийский редут подвергли бомбардировке из 24 орудий, выпустивших с шести утра до тысячи снарядов и разрушивших укрепление. В 18 часов против защитников развалин редута были успешно отправлены в атаку три батальона, которые штурмом взяли Андийский редут. Войска двинулись к Ведено, жители стали покидать селение и к ночи ушли. Утром русские заняли опустевшее поселение.
Чеченцы, не видя никакой пользы от его речи, оставили его и разбрелись по домам. Шамиль потерял всякую надежду
Ушли и защитники столицы имамата. В Эрсеное сам Шамиль призвал их к дальнейшему сопротивлению, но, как вспоминает секретарь имама Гаджи-Али, "чеченцы, не видя никакой пользы от его речи, оставили его и разбрелись по домам. Шамиль потерял всякую надежду, возвратился с приверженцами в селение Ичичали".
Аул Ведено, который 14 лет являлся столицей Шамиля, был важен для горцев. Они смотрели на него как на административный центр Чечни, из которого исходили все распоряжения, как на главный опорный пункт мюридизма. Занятие этого селения нанесло окончательный удар по могуществу Шамиля в Чечне. После взятия Ведено Шамиль вынужден был уйти из Чечни, поскольку там остались лишь отдельные очаги сопротивления. Он перебрался с верными мюридами в дагестанский аул Гуниб.
В августе 1859 года войска России во главе с наместником Александром Барятинским двинулись в поход на Гуниб, являвшийся природной крепостью, горой, с трех сторон защищенной отвесными скалами. Но сделать ее неприступной Шамиль не мог из-за недостатка войск. У него было только около 400 человек, Россия же сосредоточила в районе экспедиции до 16 тысяч военных.
Барятинский потребовал от имама капитуляции на почетных условиях: "Я требую, чтобы Шамиль неотлагательно положил оружие. Если он исполнит мое требование, то я именем августейшего государя торжественно объявляю ему, со всеми находящимися при нем теперь в Гунибе, полное прощение и дозволение ему с семейством ехать в Мекку, с тем, чтобы он и сыновья его дали письменные обязательства жить там безвыездно, равно как и те из приближенных лиц, которых он пожелает взять с собой. Путевые издержки и доставление его на место будут вполне обеспечены русским правительством". Но Шамиль не капитулировал.
24 августа (5 сентября) 1859 года началась атака: российские силы взяли сначала нижний завал на пологом склоне горы, а затем устремились наверх. К полудню после рукопашных боев значительная часть укреплений была взята, а их защитники погибли. С Шамилем оставалось до полусотни человек. Имама призвали сдаться даже его сын и ближайшие соратники, свидетельствует его секретарь Гази-Али: "Шамиль уже приготовился защищаться, положив перед собой шашку и заткнув полы за пояс. Он решился умереть, а потому отвечал нам: "Вы должны сражаться, а не говорить мне, чтобы я шел к главнокомандующему! Я хочу сражаться и умереть в этот день". Кази-Мухаммад же сказал Шамилю: "Я не хочу сражаться, я выйду к русским. А ты, если хочешь, то дерись!" Шамиль очень рассердился. Даже женщины, которые находились в мечети с оружием в руках, стали стыдить и ругать Кази-Мухаммада за его трусость, а некоторые проклинали его. В таком положении мы оставались до четырех часов. Затем, Шамиль, видя измену сына, согласился идти к главнокомандующему. Мы все обрадовались".
К 17 часам Шамиль выехал во главе конного отряда мюридов к генералу Барятинскому, считая, что еще предстоят переговоры. Шамиль пытался договориться о том, чтобы ему с семьей позволили остаться в Дагестане при условии, что он будет жить мирно. На это генерал Барятинский ответил, что тот взят силою оружия и условий никаких ставить уже не может, поскольку не сдался до боя.
Плененный Шамиль был отправлен в Россию для встречи с императором Александром II. 15 (27) сентября 1859 года в Чугуеве в путевом дворце произошла встреча имама и императора, который подарил пленному золотую саблю. Затем из Харькова Шамиля отвезли в Москву, где он виделся с отставным генералом Ермоловым, и в Санкт-Петербург, а после постоянно поселили в Калуге в трехэтажном особняке. Шамилю была назначена пенсия в 10 тысяч рублей серебром в год (затем она была поднята до 15 тысяч). За имамом и его семейством по месту жительства установлен "постоянный и бдительный надзор, но так, чтобы оный не был для него стеснительным".
29 июля (9 августа) 1861 года в Царском Селе произошла вторая встреча Шамиля с императором. Шамиль попросил Александра II отпустить его в хадж, но получил отказ. В 1866 году имам с детьми приносит присягу на верность России, которая позволит ему отправиться в Мекку, оставив сыновей заложниками. В этом же году Шамиль был гостем на свадьбе цесаревича Александра, где происходит третья встреча с императором. В 1868 году имам переехал на жительство в Киев, в начале 1869-го он получил от императора разрешение отправиться в хадж под обещание вернуться. Посетил Стамбул и Каир, был приглашен на встречи с султаном и хедивом, которые Шамиля приняли с почестями. В ноябре 1869 года он прибыл в Мекку. После хаджа Шамиль скончался в Медине 4 (16) февраля 1871 года.
Власти Российской империи оценили Шамиля как достойного противника, выключив имама из политической жизни на десятилетие и обеспечив ему и семье приличный уровень существования. Возможно, они были рады тому, что Шамиль не погиб, что сделало бы вакантным место вождя северо-кавказского сопротивления имперскому натиску России. После капитуляции имамата у российской власти появился шанс приручить часть элиту горских народов или же, что тогда колониальным державами считалось вполне цивилизованным, провести выселение желающих и непокорных. В данном случае – в принимавшую переселенцев-мусульман Османскую империю. Особенно от этой зачистки пострадали приморские земли адыгов.
Была ли альтернатива бесконечной войне имама с империей? Трудно сказать. Все же в истории Кавказской войны были моменты, когда российский самодержец, находясь в уязвимом положении в 1840-е годы или в пучине проблем Крымской войны, мог рискнуть и предложить имамату статус протектората, который позже получили Хива и Бухара. Но для принятия подобного предложения имам должен был присягнуть императору, то есть пойти против идеи независимости своего государства от России, что подрывало его легитимность. Кроме того, он вынужден был бы взять на себя ответственность за переход от войны к миру, а это серьезное испытание для политика, взявшего на себя функции военного вождя. Очевидно, что здесь могли быть сомнения.
Легче было до конца нести ношу воюющего лидера теократического государства, чем договариваться о сосуществовании с "неверными". Точно так же российским наместникам, возможно, за исключением Воронцова, легче было править в конфронтационном духе Ермолова, чем искать в ходе войны выход к миру и способы наладить сожительство горских народов с русскими на Кавказе.